В августе московского айтишника Александра Федерякова приговорили к полутора годам колонии. Его обвиняют в распылении перцового баллончика в сторону сотрудника ОМОНа на акции 23 января. Федеряков свою вину не признает, его жена Анастасия тоже уверена, что баллончика у мужа не было. Она принесла в суд нотариально заверенную петицию ОВД-Инфо и уверена: за счет этого мужу дали срок меньше, чем запрашивал прокурор. Мы публикуем ее монолог.
«Невозможно оставаться в стороне»
Акция 23 января стала для нас с мужем первой, в которой мы приняли участие. Мы абсолютно далеки от политики: не состоим ни в какой партии, не являемся активными сторонниками какого-то движения. Решили пойти на акцию, потому что невозможно было уже оставаться в стороне. Был такой общественный резонанс вокруг митинга, что казалось: это будет отличаться от всего, что было раньше, и это действительно как-то повлияет на жизнь в стране.
Мы шли с полной уверенностью, что не будет никаких провокаций, что это мирная акция. Приехали к самому началу и стояли, держались за руки, всем улыбались. Были, конечно, отдельные случаи, когда кто-то начинал кидать снежки, но сами протестующие поворачивались к тем, кто это делал, и говорили: «Ребята, так не надо. Это не то, чего здесь хотят люди». И эти единичные случаи с бросанием снежков прекращались. Это то, что я видела, пока стояла рядом с мужем.
Мне нужно было к врачу, и я была на акции меньше часа. Когда уезжала, мы решили с мужем, что он пройдет до конца маршрута и мы встретимся дома. Договорились, что действуем максимально мирно, и были уверены, что, если не причинять никому вреда и ни во что не вмешиваться, эта акция закончится для нас благополучно. Я знаю принципы, по которым живет мой муж, поэтому понимала, что он не станет принимать участие ни в каких актах насилия, и была за него спокойна.
Конечно, мы понимали, что могут задерживать даже случайных людей, но считали, что даже при худшем сценарии за мирное нахождение на акции грозит максимум штраф или административный арест. На всякий случай взяли с собой воду, печеньки и телефон ОВД-инфо. Но нас не задержали, и мы как-то сразу выдохнули.
Обыск, допрос и черно-белые кадры
С обыском к нам пришли сильно позже — 31 марта. Мы были шокированы: к нам явилось довольно много людей в форме. Они начали говорить, что Саша напал во время акции 23 января на представителя власти. Мы переглядываемся — не понимаем, о чем речь. Ощущение, что Сашу с кем-то перепутали. Какое вообще нападение? Я же знаю, что все прошло мирно. После акции мы с мужем общались. Если бы был какой-то такой эпизод, он бы мне рассказал об этом, а он даже не видел, чтобы кто-то рядом с ним применял насилие.
После обыска Сашу забрали на допрос. Мне разрешили отвезти детей к отцу и приехать позже. Младшей дочери тогда было чуть больше года. Она была еще совсем маленькой и постоянно держалась за меня. Старшему сыну было на тот момент уже семь лет, и его прямо трясло от того, свидетелем чего он стал. Это сильно пошатнуло его картину мира, потому что раньше он мечтал, что когда вырастет, станет полицейским и будет ловить бандитов, а тут на его глазах полицейские задержали Сашу, который является для него образцом порядочности и доброты.
У отца тоже был шок, когда я привезла ему детей перед допросом. Во-первых, он не знал, что мы участвовали в акции. Мы не обсуждаем политику в семье. Во-вторых, сильно удивился, что Сашу арестовали, но ни на секунду не сомневался, что все обвинения в его адрес необоснованны, и был уверен, что сейчас все выяснится и Сашу тут же отпустят.
Я поехала на допрос с такой же уверенностью. Допрашивали меня сразу как свидетеля. Следователь все пытался добиться от меня каких-то показаний против мужа: спрашивал, что мы делали на акции, был ли у мужа перцовый баллончик. Я ссылалась на 51-ю статью Конституции и не говорила ничего. Потом мне начали показывать какие-то размытые фотографии, на которых были люди в масках. Меня спрашивали, узнаю ли я на фото себя и мужа. Я, естественно, не узнавала.
Следователь постоянно делал акцент на том, что у них есть якобы неопровержимое доказательство того, что мой муж распылил баллончик на акции и что, отрицая свою вину, он делает себе только хуже, а я делаю хуже ему, говоря, что баллончика у него с собой не было. Я все до последнего не могла понять, как у них может быть доказательство того, чего на самом деле не было.
Только в самом конце следствия нам показали материал, на котором строится обвинение. Он состоял из нашей фотографии, где мы приехали на митинг и стоим рядом друг с другом, и черно-белого кадра — скриншота из видео, где изображена толпа людей, их спины, и понять ничего больше невозможно. Следователь как-то связал эти две картинки: раз мы были на акции, где было распыление газового баллончика, значит муж и распылил баллончик в сторону сотрудника ОМОНа.
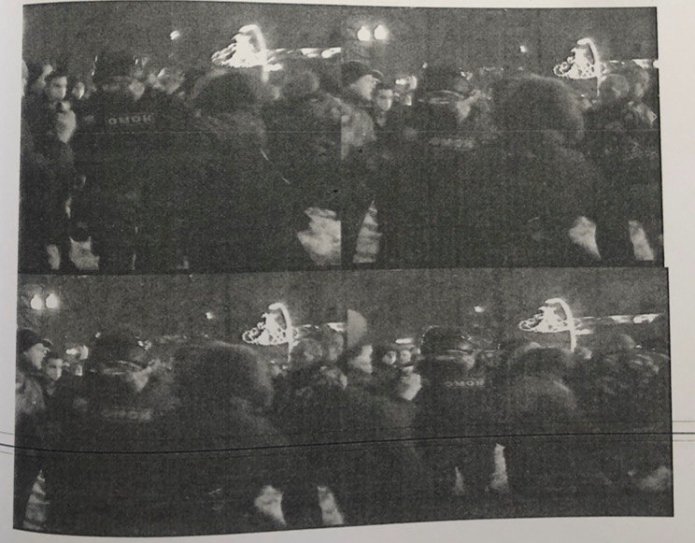
Статус свидетеля и петиция
Из-за того, что у меня был статус свидетеля, три месяца у нас с мужем не было возможности даже пообщаться или увидеться. Обо всем, что происходило с ним, я узнавала через адвоката.
Общаться нам официально разрешили только после того, как прошел суд. На суд по рекомендации юриста я принесла нотариально заверенную петицию от ОВД-Инфо с просьбой освободить всех фигурантов «дворцового дела». Там указаны все, в отношении кого завели уголовные дела по итогам зимних акций, в том числе и мой муж — Александр Федеряков.
Очень сложно было понять реакцию судьи, когда она увидела мою нотариально заверенную папку, но оснований отклонить ходатайство о присоединении этой петиции к делу у нее не было. Мне кажется, петиция — это хорошая возможность доносить до представителей власти, что фигурантов «дворцового дела» в обществе поддерживают и люди возмущены фактами уголовного преследования тех, кто вышел на мирную акцию. У меня есть ощущение, что все люди живут в разных реальностях, читают разные источники информации, и картины мира у всех из-за этого очень разные, а такие петиции как раз дают возможность построить мостик между одним миром и другим.
Как людям с другой картиной мира донести иначе нашу правду? Если им что-то начать доказывать, это будет воспринято как личное мнение, у такого высказывания априори нет веса. А когда люди видят, что есть официальная петиция, которую многие подписывают, — это позволяет как будто сказать, что мы — участники акций — нормальные живые люди, и нас таких много. Мы не агенты, проплаченные Западом, а просто люди, которые хотят жить другой жизнью. Так что, мне кажется, эта петиция в том числе повлияла на решение суда: на то, что мужу дали в итоге полтора года колонии, а не четыре, как запрашивал прокурор.
Я же следила за делами других фигурантов «дворцового дела» и видела, как происходил наш процесс: потерпевший постоянно менял показания, и суд воспринимал это как норму, а когда защита пыталась представить что-то более серьезное, чем материалы, характеризующие личность, это отклонялось. Так что я морально настраивалась на то, что Саше могут дать большой срок. Помню, мы тогда на суде много с ним переглядывались: очень выразительно общались взглядами, и когда судья зачитала решение, он мне показал пальцами: мол, не расстраивайся.
Мы тогда старались использовать все возможности невербалики, чтобы общаться через взгляды, жесты — очень маленькие, почти незаметные для других.
А потом начались звонки. Саша вот звонил недавно, а рядом со мной бегала дочь. Она пока еще не разговаривает и просто пищала в трубку что-то вроде «бе-ме»: какие-то очень нежные звуки издавала. Это был первый раз, когда Саша услышал ее голос.
Два раза после суда я ездила к Саше на свидания. Это, конечно, очень сильный эмоционально опыт: ты видишь человека, но не можешь к нему прикоснуться, вы не можете говорить достаточно откровенно, но при этом у вас есть целый час, когда вы можете слышать голоса друг друга. И ты стараешься глазами, жестами, интонацией передать всю любовь, которая бурлит внутри. Кажется, что ее настолько много, что сейчас она окрасит весь мир в самые нежные цвета.
Уходить от него потом, конечно, очень тяжело, но я так счастлива, что могу его теперь хотя бы видеть и слышать его голос. Мы на свидании стараемся не говорить друг другу каких-то фатальных слов, пытаемся шутить и общаться как раньше. Ощущение, что это просто такой странный формат встречи двух любящих людей, а контекст, что муж сидит по политически мотивированному делу совершенно ни за что, остается за кадром.




 Скачать PDF версию
Скачать PDF версию